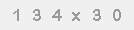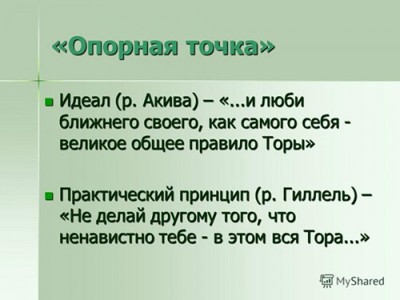
Беседа с главным раббаем Центра «Бет Гавриэль»Имануэлом Шимоновым
Согласитесь со мной, дорогой читатель, что, на первый взгляд, для человека непросвещённого поставленная задача может показаться в принципе невыполнимой, поскольку далеко не каждый способен быть столь любвиобильным, чтобы привлечь своими чарами, если и не каждого ближнего, то хотя бы их значительную часть. К тому же, такое тонкое чувство, как любовь, строго избирательно, выборочно, сопряженно с массой самых различных обстоятельств личного и социального характера, а потому вести речь о необходимости или желательности воспитания в себе стремления, тем более обязанности с любовью относиться к ближнему – задача не из простых, если порой и невыполнимых.
Другое дело, когда речь идёт об одной из заповедей Святого Писания, об её особенностях, о её внутреннем содержании, способствующем развитию в подсознании человека, именно в подсознании, органической потребности, необходимости и даже обязательности любить ближнего, как самого себя. Судя по характеру интересующего нас вопроса, без помощи раббая Имануэла Шимонова нам здесь явно не обойтись.
В.К.: – Уважаемый раббай, надеюсь Вы не станете возражать, что в самой общесоциологической сущности словосочетания «Люби ближнего, как самого себя...», подчёркиваю, не иудейской заповеди, а именно социальном выражении, заложено, по меньшей мере, два противоречия, которые никак не могут пройти мимо нашего внимания и не вызвать сомнений в корректности поставленной проблемы. Во-первых, не касаясь сакральной, божественной стороны вопроса, трудно не озадачиться мыслью: за что любить, за какие достоинства, тем более, что в наш прагматический век «слепая любовь»–явление достаточно редкое, даже маловероятное. Во-вторых, а если объект твоей вероятной любви, т.е. ближнего – персона малоприятная, не исключенно, антипатичная. О какой уж тут любви можно замышлять, когда лишь при одной мысли всё восстаёт внутри?
И.Ш.: – В том то и особенность, и исключительность иудаизма, что в его анналах вызрел не прагматичный, не, тем более, меркантильный взгляд на тему необходимости и даже обязательности любви к ближнему, как способа существования еврейского социума, положенного в основу одной из важнейших заповедей, нашедших отражение в Святом Писании. Речь в данном случае идёт о духовной стороне вопроса, о духовном совершенстве личности, о её способности, желании и стремлении оказать поддержку ближнему в его поисках смысла жизни, радости служения Творцу, исполнения Его заповедей.
Путь к этому духовному совершенству, включая внутреннее моральное совершенство человека, никогда не был прямолинеен. Вражда, войны, доносы как крайние антиподы людского общежития, любви к ближнему, всегда были, есть и будут в обозримом будущем спутниками истории. В Торе есть такой эпизод, когда Моше Рабейну, будучи свидетелем того, как сорятся между собой два еврея, а один их них готов даже нанести удар другому, предотвратил рукоприкладство словами: «Злодей! Почему ты бьёшь ближнего своего?» (Шемот, гл. 2, стр. 13).
Вывод в данном случае напрашивается однозначный: наши мудрецы исходят из того, что тот, кто даже просто попытался физически воздействовать на ближнего, иначе, чем злодей, не может быть квалифицирован.
В.К.: – Тем не менее, давайте будем откровенны и справедливы. Разве будучи детьми, нам не памятны факты, когда родители в исключительных случаях могли отшлепать по мягкому месту излишне разыгравшегося шалуна, безнаказанно многократно пропускающего мимо ушей замечания старших и их настойчивые умилительные просьбы наконец-то угомониться? Всякое встречается, хотя ныне в условиях современной Америки, не в диковинку родителю оказаться в полицейских наручниках, если строптивый малолетка сообразит «стукнуть» 911 на горячо любящего и любимого папу, посмевшего «унизить» достоинство своего бесценного, да к тому же, долгожданного чада. Какова позиция наших мудрецов в этом вопросе, тем более если её просвечивать сквозь призму заповеди «люби ближнего, как самого себя...»?
И.Ш.: – Эта тема беспокоила и не давала покоя еврейским Учителям издревле, не потеряла она своей актуальности и сегодня. К примеру, царь Шломо многократно подчёркивал, что с учётом бесспорного факта, констатирующего строгую обязанность родителя уделять первостепенное внимание воспитанию своего ребёнка, никак не может и не должен сторониться, помимо всего прочего, и физического воздействия на ослушника, строптивца, если того требуют обстоятельства.
Мало того, царь Шломо, вошедший в историю как великий мудрец и пророк, был убеждён, что те родители, которые по разным причинам избегают использования тех или иных методов «силового» воздействия на излишне неподатливых детей, не только глубоко заблуждающимися педагогами, но и упускающими возможность предотвращения негативных проявлений, как в их поведении, так и характере.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что метод физического воздействия на ребёнка требует от родителей самой серьёзной осмотрительности и осторожности, поскольку он обоюдоострый, особенно в периоды, когда дети, повзрослев, в момент отчаяния и обиды могут дать сдачу, не говоря уже о его психическом и моральном влиянии на их сознание. Поэтому ни в коем случае не следует пытаться наказывать ребёнка физически в порыве гнева, несдержанного выяснения отношений на повышенных тонах, всегда помня, что рукоприкладство в воспитательных целях – это крайняя мера, но никак не устоявшийся привычный принцип, используемый по поводу и без достаточных причин. Когда шлепки по инерции раздаются порой направо и налево по бездумной манере, на всякий случай, как в хорошо известной притче об Афанди.
В.К.: – Порой можно услышать те или иные споры, мнения, согласно которым еврейские заповеди различаются между собой по степени своей важности и воздействия на различные аудитории. Насколько правомерны подобного рода воззрения?
И.Ш.: – Ваш вопрос вполне оправданный и справедливый, поскольку упомянутые вами разночтения действительно имеют место в реальной жизни. К примеру, одни утверждают, что наиболее весомой и влиятельной заповедью явлется уверенность, согласно которой «быть в радости (лихъот бе-симха)» определяет сущность еврейского характера и более всего воздействует на образ жизни иудеев. Другие убеждены, что
центровое место принадлежит заповеди о соблюдении субботы, тогда как третьи отдают предпочтение идее – «Люби ближнего, как самого себя...» Убежденным сторонником этого утверждения выступал знаменитый раббай Акива, что нашло отражение в «Иерусалимском Талмуде» в виде его известного классического выражения – «Фундаментальный принцип Торы».
История иудаизма сохранила немало и других взглядов по данному поводу. Царь Давид пальму первенства отдаёт заповеди «служите Вс-вышнему с радостью – бе-симха». Ещё одно мнение в этой связи: «(Наказание полагается тебе) за то, что не служил Вс-вышнему с хорошим настроением сердца» (Дварим, гл. 28, стр. 47), благодаря чему утверждалось мнение, согласно которому радость служения Творцу – это главная еврейская заповедь, определяющая судьбу человека.
Что касается «святости Субботы», то роль этой заповеди в судьбах еврейства трудно переоценить. Во-первых, это самое серьёзное свидетельство того факта, что мир был создан Творцом в течение шести дней. Стало быть именно суббота – есть духовная основа всего еврейского бытия. Конечно, говоря о прикладной ценности еврейских заповедей, следует с особым нажимом подчёркивать весомость десяти заповедей, являющихся сводом нравственных установок, призванных определять направленность повседневной жизни каждого иудея.
Тем самым, хочу ещё раз заметить, что 613 еврейских заповедей представляют собой цельную законченную органичную систему, каждое звено которой несёт на себе определённую духовную нагрузку и никак не может быть, даже условно, выведено за пределы всей системы. Однако это не мешает человеку в зависимости от индивидуальных особенностей, психического склада характера, культурных запросов и интересов в определённые периоды своей жизни, и в силу индивидуальных причин акцентировать избирательно особое внимание на тех или иных конкретных заповедях. В подобных случаях эти выборочные заповеди используются в качестве морального ореола, если хотите духовного маяка во имя достижения определённых нравственных целей и внутреннего самоуспокоения.
В.К.: – По себе знаю, по своим сугубо личным и даже строго интимным ощущения и переживаниям, насколько важно и необходимо выработать в своём сознании инструменты подобного рода, своеобразную духовную опору, моральный ориентир, способный, когда это необходимо, оградить себя от негативного воздействия выпадающих испытаний, дурных мыслей и соблазнов, да мало ли чего повседневно встревающегося и вторгающегося в личную жизнь.
Для меня, к примеру, спасительными заповедями уже многие годы служат три из всего их множества, перед силой и могуществом которых я буквально преклоняюсь, настолько глубоко и результативно они, уже давно осев и закрепившись в моём подсознании, уводят меня порой от теневых и неприятных раздумий и того негатива, что в избытке повседневно вторгаются в жизнь современного человека.
Первой для меня подобной заповедью стало чувство огромной благодарности за всё то, чем я обладаю, чем судьба наделила меня. Уникальность этого ощущения, если оно овладело всеми фибрами твоей души, заключается в том, что эта уверенность берёт на себя роль, прежде всего, специфической еврейской «таблетки» от зависти, спасающей от желания или необходимости постоянно оглядываться по сторонам, останавливая свой взор на тех, кому, как нам кажется, живётся лучше, удобней, комфортней. До чего это сверх неблагодароная изнуряющая работа, превращающая жизнь в сплошное испытание, а окружающий мир в исчадие ада и сплошной несправедливости. Но, когда ты себе говоришь: спасибо за то, что есть, за то, чем Он меня наградил, эти гадкие мысли отступают назад, прячутся от твоего мысленного взора.
Известный российский писатель Георгий Вайнер, проживший свои последние годы жизни после иммиграции в Нью Джерси, в одном из интервью говорил: «Мне ровным счётом ничего не нужно, слава Б-гу, у меня всё есть. Лишь бы не отняли то, чем я сегодня обладаю», имея, конечно же, в виду, в первую очередь, свою семью, детей и внуков. Насколько это понятно и созвучно с нашими мыслями и стремлениями, говорить излишне.
Продолжая эту мысль, хочу заметить, что великую силу утешения даёт заповедь, позволяющая причислять себя к числу дающих, в первую очередь, благодаря особенностям замечательной страны, гражданами которой мы стали.Это обстоятельство, к примеру, даже в моём весьма почтенном возрасте, связанное, прежде всего, с возможностью оказывать, в частности, знаки внимания родным и близким, в особенности внукам, даёт неимоверное ощущение независимости, что ещё не всё потеряно, что, несмотря на стремительно пробежавшие годы, жизнь продолжается и не утратила своего привлекательного многоцветья.
И последнее. Это заповедь, сопряжённая с необходимостью обладания воздержанным языком, когда человек выработал в себе, в своём мироощущении стабильную уверенность и необходимость, сообразно которым не язык должен управлять головой, а напротив голова обязана держать под строгим контролем звуки, издаваемые при посредстве языка. Невоздержанный язык, управляющий головой, способен приносить человеку массу бед, а потому, уважаемый раббай, Ваши постоянные упоминания по данному поводу в общественных аудиториях очень важны и актуальны.
И.Ш.: – Ваш выбор мне вполне понятен, но это не означает, что другие заповеди должны пребывать в забвении от вашего внимания, находиться в стороне, поскольку каждая из них играет в иудаизме свою строгую индивидуальную роль, а потому их выпадение из сферы внимания человека, их игнорирование, как правило, не может не оказывать негативного воздействия на мироощущения индивидуума, ни его моральное состояние в целом.
И, конечно же, даже если вы заостряете своё внимание в силу определённых обстоятельств на тех или иных избранных заповедях, придаёте им статус главенствующих, несущих, с течением времени, в силу возможной перемены
ситуации, ваши предпочтения могут также измениться. Поэтому еврейские заповеди, как комплексное явление, все, без исключения, должны находиться в поле вашего зрения.
В.К.: – Позвольте мне в данной связи задержать Ваше внимание на содержательной части заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя...» Как быть, если мне лично в силу тех или иных причин неприятно общение с какой-то конкретной персоной и ни о какой любви к ней или даже элементарном уважении и симпатии, знаках внимания речи быть не может?
И.Ш.: – Очень правильный и уместный вопрос, который многих волнует. Наши Учителя, предвидя возможные разночтения подобного рода, предусмотрели их правильную интерпритацию. К тому же, если учесть, что упомянутая вами заповедь имеет чрезвычайно важное значение в практике иудаизма и её конкретного использования в реалиях жизни, еврейские Мудрецы досконально расшифровали существо этого явления.
В Талмуде можно отыскать интересный момент, связанный с тем, что когда один нееврей обратился к знаменитому Мудрецу Гиллелю с просьбой сформулировать в сжатой обобщенной форме основной принцип Торы, великий Учитель ответил: «Не делай другому то, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе». И этот пассаж вовсе не случаен, так как имеет прямое отношение к заповеди «Возлюби ближнего...», поскольку они переплетены между собой и постичь вторую заповедь никак нельзя, если не придерживаться первой.
Судите сами. Человек, нетерпимо реагируя на чью-либо неуважительность по отношению к себе, понимает, что это есть ответная реакция на его собственное поведение, которое следует изменить. В противном случае устоявшаяся взаимная неприязнь будет отравлять отношения обоим и кроме обоюдного вреда ничего иного порождать не будет. Стало быть аксиома Гиллеля – это ключ к пониманию неотвратимости и неизбежности добровольного и всеобъемлющего исполнения заповеди «Возлюби ближнего...»
Известный еврейский Мудрец древности Бен Зома констатировал наличие ещё одного, но, как нам представляется, не менее глубокого явления: «И создал Творец человека по образу Своему», замечая тем самым, что Он увековечил истоки происхождения заповеди «Возлюби ближнего...» К тому же, совершенно очевидно, что для того, чтобы научиться любить других, необходимо в неменьшей степени любить себя. Это связь взаимообразная и взаимообусловленная, без одного не может быть другого.
В.К.: – Обычно принято считать, что себялюбцы – это племя людей эгоистичных, как правило, не замечающих вокруг себя никого, что достоинством в приличном обществе никогда не признавалось.
И.Ш.: – В данном случае речь идёт о другом. Глава Торы «Кдошим» насыщена 51-ой заповедью, одна из которых «Люби ближнего, как самого себя...», что является далеко не из простых задач. Начну с того, что под любовью к себе в иудаизме подразумевается, прежде всего, способность и стремление человека честно и добросовестно исполнять миссию, которую Создатель предначертил каждому из нас. Самая главная и ответственная из них – это прожить свой век, строго соблюдая Его заповеди, способствуя и поощряя близких уверенно идти той же дорогой близости к Творцу.
Иными словами, любовь к себе, также как и к близким – это, прежде всего, забота о своей душе, которая простирает свою силу и уверенность в правильности и праведности избранного пути на тех, кто с вами рядом, кто дорог вам, кто встречается вам на жизненной тропе. Всё остальное, воспользуемся словами одного нашего мудрого Учителя, – «комментарии».
В.К.: – Сердечная Вам благодарность, уважаемый раббай, от всей нашей огромной аудитории за содержательную беседу, которая каждого из нас подводит к очень нужным и надеюсь своевременным раздумьям.
В.КАНДИНОВ
ЕВРЕЙСКИЕ ЗАПОВЕДИ ИЛИ КАК «ВОЗЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО...?» А ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ?
Typography
- Smaller Small Medium Big Bigger
- Default Helvetica Segoe Georgia Times
- Reading Mode